— Нет, не сплю и жду, — сказал Феофил, смачно зевнув. Большую часть дня он охотился. Господь был к Феофилу милостив, потому что добыча была богатой, и теперь у него было достаточно мяса, чтобы прожить грядущую зиму. Вот и сейчас на вертеле висели остатки оленины. — Я уже думал, что ты не придешь.
— Я привел с собой жену.
Жену. Значит, уже можно было яснее представить себе, кто это приходит к нему под покровом ночи. Теперь понятно, что этим ночным гостем был не Руд, как Феофил сначала предполагал. Руд был холостяком. Не был это и вдовец Хольт. Не принадлежал он и к десятку молодых и крепких воинов, которые не были еще женаты.
— Приветствую вас обоих, — сказал Феофил. — В следующий раз приводите и детей. — Эта фраза привела гостей в некоторое замешательство, потому что наступило напряженное молчание.
Он услышал, как женщина что–то прошептала, а мужчина резко ей ответил:
— Не смей говорить об этом. Ни слова. — Потом снова наступила небольшая пауза. — Он — друг Атрета… — Дальше слова стали неразборчивыми, потому что подул ветер и зашумели деревья.
Вечер выдался холодным. Феофил понимал, что ему гораздо удобнее в тепле своего грубенхауза, чем этим мужчине и женщине, которые продолжали скрываться в холодной темноте поздней осени. Его слова вызвали в них определенную тревогу. Он уже пожалел о своем любопытстве.
Они твои дети, Господи. Пусть они побудут здесь, чтобы услышать Твою Благую Весть. Пусть Твоя любовь изгонит из них страх.
— Я хочу, чтобы ты рассказал об Иисусе моей жене.
Феофил услышал, как у женщины стучат зубы от холода.
— Твоей жене холодно.
— Тогда рассказывай быстрее.
— В Божьем Слове никогда не следует торопиться. Если я завяжу глаза, вы войдете ко мне в дом? Здесь теплее.
Феофил услышал, как женщина что–то прошептала.
— Да, — ответил мужчина.
Взяв с полки нож, Феофил отрезал полоску от своего одеяла. Он положил нож рядом со светильником, который поместил посередине помещения. Потом он закрыл глаза и крепко завязал их.
Он услышал, как его гости вошли и закрыли за собой дверь, которую он закончил только вчера. Женщина продолжала стучать зубами, возможно, не столько от холода, сколько от страха.
— Успокойся, моя госпожа, — сказал ей Феофил, ощупывая рукой пространство слева от себя, пока не нащупал еще одно одеяло.
— Вот, возьми, завернись в него. — Он услышал шорох движения, и одеяло взяли у него из рук.
— Начни с самого начала, — попросил мужчина. — Расскажи ей о том, как звезда и небеса провозгласили о рождении Спасителя.
* * *Бруктеры привозили в эти места товары на продажу. Она продавали кельтские броши, булавки, ножницы, глиняные изделия, серебряные и золотые сосуды из Рима. Хатты обменивали их на меха и кожи, а также на янтарь — окаменевшую смолу, которая на крупных рынках империи пользовалась огромным спросом.
— Торговцы, которые пришли сюда, на север, пострадают от потерь, — сказал как–то один бруктер, однако мало кто из хаттов верил, что эти торговцы обрели свои товары почетным, на их взгляд, способом — нападениями и грабежом. Гордость мешала им задавать вопросы.
Римские купцы проникали в Германию и соблазняли местные племена дарами и подкупами, чтобы открыть новые рынки торговли. Корабли плыли вверх по Рейну и везли товары в Трир. Самые отчаянные торговцы проводили целые караваны, подвергая себя смертельной опасности, добираясь до Рура и Майна, проникая в северные долины по рекам Везер и Эльба, зная при этом, что могут не вернуться оттуда живыми.
Два года назад, когда несколько римлян пришли к хаттам, их ждала здесь быстрая и жестокая смерть, а их товары просто разграбили. Возмездие Рима последовало незамедлительно, после чего деревню сожгли, а восемнадцать воинов, три женщины и один ребенок погибли. Остальные попали бы в рабство, если бы не убежали в лес и не прятались там, пока легион не покинул эти места.
На место сожженной деревни хатты вернулись только однажды, чтобы почтить своих умерших и погибших в наскоро построенном для этого доме. В последующие месяцы хатты построили новую деревню к северо–востоку от священного леса.
И вот теперь римляне пришли опять, продвинувшись на этот раз еще дальше на север, послав к хаттам своих представителей в лице бруктеров, которые традиционно считались союзниками хаттов в борьбе против римлян. Когда бруктеры, пришедшие к хаттам как представители Рима, ушли, хатты заговорили о войне.
— Надо было их убить, пока они были здесь!
— Чтобы сюда пришел еще один римский легион? — сказал Атрет.
— Скоро мы сами пойдем войной на юг.
Несмотря на увещевания Атрета, воины покинули собрание, чтобы всем возвестить о своей решимости начать военные действия. Атрет смотрел им вслед, испытывая противоречивые чувства. Он теперь достаточно хорошо видел Божий план в своей жизни и понимал, что по совести своей не имеет права к ним присоединяться. Но, с другой стороны, ему так хотелось быть с ними. Сколько прошло лет с тех пор, как он в последний раз чувствовал в крови ярость битвы? Нечто подобное он испытывал, когда Рицпа была в его объятиях, но все же это было не то.
— Тоскуешь по жару битвы, — сказал ему как–то Феофил, видя переживания Атрета и понимая причину этого.
Сказать, что Атрет тосковал, значило не сказать ничего.
— Иногда, — хмуро ответил Атрет, — но не только. — Как это ни странно, но ему не хватало того чувства, которое он испытывал на арене, когда смотрел смерти в глаза и побеждал ее только благодаря невероятно сильному инстинкту самосохранения. В этот момент кровь закипала в его жилах. Иногда, в гневе, он испытывал сходные ощущения. Его охватывало дикое, неконтролируемое возбуждение, заставляющее острее почувствовать жизнь. Только потом обман раскрывался, и Атрет осознавал, какая за всем этим стоит пустота.
Феофил его прекрасно понимал.
— Ты и сейчас сражаешься, Атрет. Мы оба сражаемся и противостоим врагу куда опаснее и коварнее, чем все те, с которыми мы сражались когда–либо раньше. — Римлянин остро чувствовал, какие темные силы сомкнулись вокруг них.
Когда хаттские воины вернулись с добычей, чувствуя себя победителями, настроение у Атрета стало еще хуже. Он пил с друзьями, жадно слушал, как они во всех подробностях рассказывали о сражениях, и в его сердце начинала закрадываться тоска по битвам, в которых когда–то довелось участвовать и ему.
Феофил напоминал другу, что все это можно назвать как угодно, но только не доблестью.
![Франсин Риверс - Рассвет наступит неизбежно [As Sure as the Dawn]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)
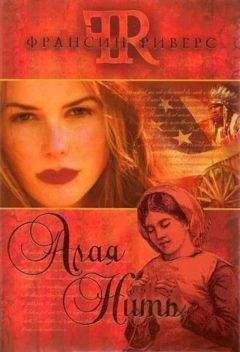
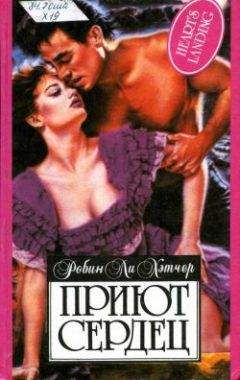
![Франсин Риверс - Рассвет наступит неизбежно [As Sure as the Dawn]](https://cdn.my-library.info/books/7492/7492.jpg)

